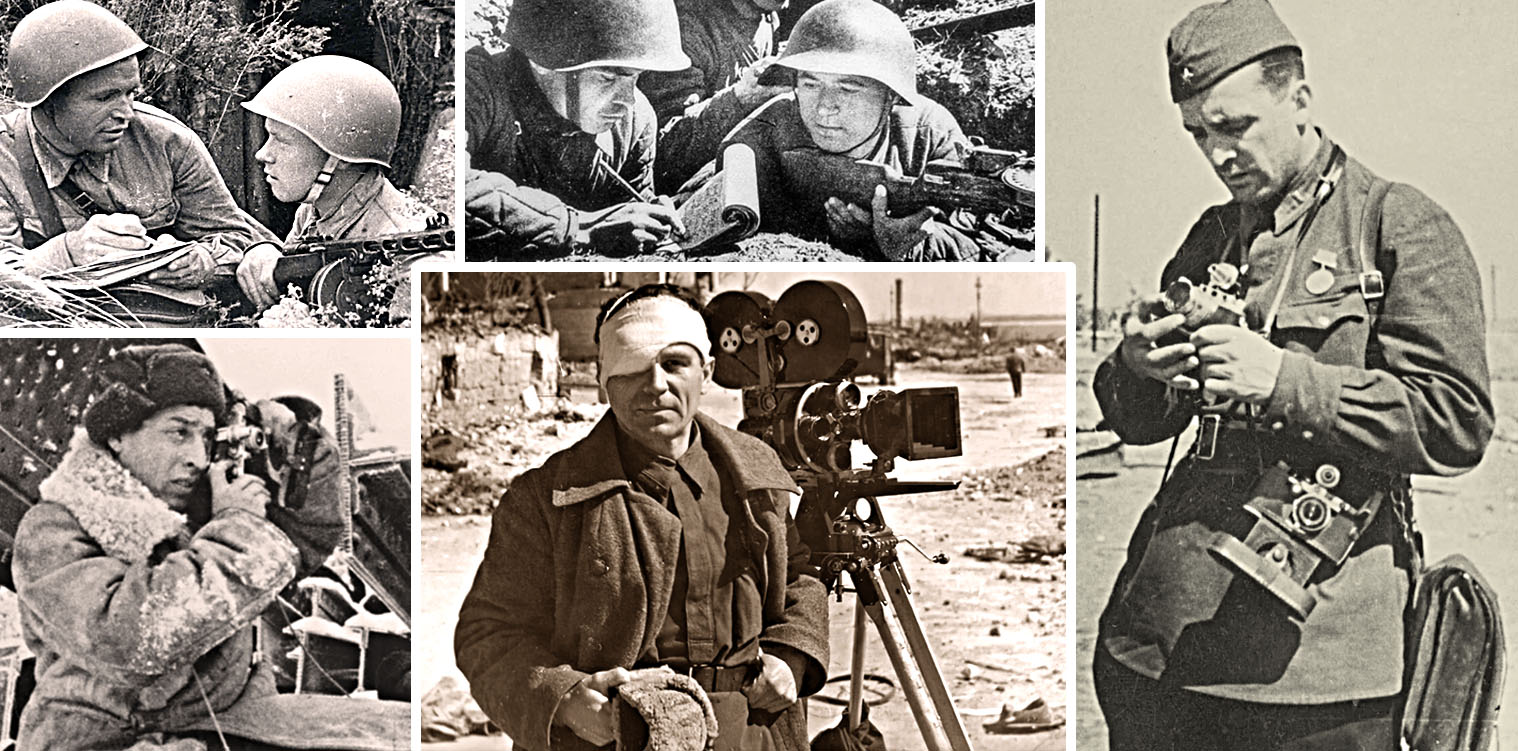Холодова Клавдия Фёдоровна (14.11.1943 – 8.02.1976) — русская советская поэтесса и журналистка.
Корреспондент астраханской молодежной газеты «Комсомолец Каспия»
(журналист Герман Коломенко: памяти супруги, поэтессы Клавдии Холодовой)
Боже, целых тридцать лет, как ты ушла… До мелочей помню то страшное воскресное февральское утро. Ранний звонок в дверь. «Вас вызывает главврач!» Карета «скорой». И длинный бинт в моих руках с двумя узелками – мерка. Не для свадебного, для вечного деревянного платья…
Судьба идёт проторённой дорогой. Мы с тобой росли сиротами. Осиротела наша дочь, осиротел и внук. Ты позвала к себе нашу Жанну – Настеньку в том же возрасте, когда призвала тебя так никогда и не виденная мною тёща… В один выходной езжу на поклон к тебе, в другой – к дочери.
Ты была и осталась светлым человеком. А ещё мужественным. Не каждый поэт написал последние стихи без скорбных мелодий, без ноток реквиема. Ты смогла.
Я сквозь асфальт
Травою прорасту.
И просветлеют
Всех прохожих лица.
И обойдут
Отнюдь не за версту,
И станут мне,
Как празднику, дивиться.
Ты была нашим праздником. Такой и осталась. Твои стихи – лёгкие, почти невесомые, кружились в вальсе снежинок, в медленном танго золотых листьев. Не потому ли на твои стихи любили слагать свои песни Анатолий Гладченко, Виталий Зайчиков, Анатолий Бочкарёв? Имена некоторых подзабыл, да простят они меня.
«Когда слушаешь стихи Клавы Холодовой, хочется быть добрее к людям, чаще дышать природой, светлее грустить. Столько в них ласки и беззащитной доверчивости!
Голос её звучит хорошо, естественно, не требуя откликов. Потому что сама интонация не может остаться незамеченной», – так писал поэт Валентин Сорокин в предисловии к твоей самой первой книге.
И теперь мне ночами снится
С каждым годом больней, больней:
Одиноко сквозь пламя мчится
Голубой–голубой олень.
Тебя узнавали по радио, безошибочно угадывали в закадровом голосе по телевизору, твои строки (вроде бы все такие же, как у других) нельзя было спутать. В них какая-то своя, необъяснимая и завораживающая сила.
Тебя любили читатели. Тебе завидовали собратья по литературному цеху. Мужчины в основном. «Какая-то маленькая девчонка, она даже гусей пасла, без институтского диплома. А я при нём, при костюме 56-го размера, при ботинках 45-го…». Дяденька не понимал, что талант с дипломом не вручают, и он (талант) никак не пропорционален габаритам фигуры или размеру туфель.
Ты тоже завидовала талантам. Блоку, Цветаевой, Ахматовой. Они были твоими иконами, перед которыми ты творила неслышную свою молитву. В день смерти Василия Шукшина сказала: «Господи, если б можно было отдать ему своё сердце, отдала б не задумываясь». И не было бравады, игры в твоих словах. Случись возможность, так бы и поступила. Только вот и твоему сердцу оставалось биться чуть более года. Только кто тогда об этом ведал?
Мечтали, строили планы. Решён был вопрос о Высших литературных курсах при Литинституте, готовились новые книги. Стали подумывать об Алёшке-сыне. Но впереди ждали чёрный февраль 76-го да горб земли под твоим именем. Судьба подводила жирную траурную черту под нашим союзом.
Не отдам я никаким потравам
Эту боль, надежду, маяту.
Снова осень зажигает травы –
Без огня и травы не растут.
«Прямое, открытое, «беззащитное» признание-главная черта поэзии Клавдии Холодовой», – так писал Виктор Кочетков в предисловии к столичному изданию твоей книги «Родниковая кровь» и желал «нести и впредь слова врачующей силы и родниковой свежести».
Но критики справедливо упрекали тебя в неумении писать на заданные темы, в малой толике стихов «общественно значимой темы». Помнишь, командировали тебя на «липецкую Магнитку» – прославить ударную комсомольскую стройку? Не получилось прославления. Не твоё это.
Лирику привезла, пафос оставила другим. Но если пристально прочитать всё твоё – славы человеку труда у тебя предостаточно. Только слава эта не барабанная, не трибунная, а глубинная, тихая.
Твои лирические герои – Степановна, Марья, дядя Миша, монтажники, баба Фрося – все от земли, от реки, от моря. У них – тяжёлые руки и удивительная лёгкость на доброту, соучастие, сопереживание в горе и радости.
…Когда услышал отца твоего, Фёдора Васильевича, мачеху, деда Сашка, понял, откуда у тебя страсть к слову, к мелодике языка. Ты ж из-под Курска, из края песенного, соловьиного. А когда к родникам детства с малой твоей родины добавились ещё волжская синь, мощь наших степей – они стали крыльями твоей поэзии. Родники, Волга, степь задавали тему, а сердце твоё выдавало стихи, многократно пропустив их через тончайшие фильтры души и мозга.
Ты работала много. Никогда не позволяла себе «грубо сколоченной» строки. Работала иногда до изнурения, до нервного срыва. Сколько собратьев по перу спокойно доживают до преклонных лет, перебиваясь на технике стихосложения, перетасовывая свои наработанные клише. Но тебе даже мысль о таком «творчестве» казалась кощунственной.
За лёгкостью твоего стиха – тяжелейшая, изнурительная работа. Каждая строка – из кусочков сердца, души. Но даже их глубинный колодец не бездонен.
Понимала ли ты, что стихи сжигают тебя? Понимала. Но отринуться от них, отвернуться было смерти подобно. Стихи не были для тебя увлечением, хобби. Они – суть твоя, твоя судьба, от которой не уйти.
Спокойно переживая отсутствие модного платья, бижутерии, ты не могла пережить дня без стихов. Ты страшилась жизни без них. Тогда б это уже не было для тебя жизнью. Существование и только – не для твоей натуры.
Иногда ты срывалась: «Зря обзавелась семьёй. Быт заедает». А менять что-то было уже невыносимо и невозможно.
Стихи – твоя радость и мука. Они и родятся только тогда, когда душа рвётся от пережитого. По-другому – вирши, которые пытаются выдать за стихи. Да они даже не дальние родственники.
…Минуло тридцать вёсен и зим. Мир по-прежнему прост и сложен, красив и безобразен, нежен и груб. Что и сколько каждому отмерено? Успокаивают, бодрят, дают надежду строки твои:
Я знаю:
В мире всё не поровну,
Добра–то больше всё равно!
Упрятать тебя за могильной плитой – во власти Судьбы. Но и ей, всемогущей, не под силу увести тебя из сердец наших, из душ.
И яблоком под ноги упаду,
Льняной рубашкой обниму вам плечи.
Я сто путей вернуться к вам найду.
…До скорой встречи!
До встречи, Клав, до встречи!
Герман КОЛОМЕНКО.
2006 г.
Дополнительная информация
Родилась в селе Дьяконово Курской области, в многодетной крестьянской семье. Окончила Курский строительно-монтажный техникум и была распределена на работу в строительную организацию Астрахани.
Работая на стройке, она начала писать стихи, которые с 1964 г. стали публиковаться в астраханской молодёжной газете «Комсомолец Каспия».
С первого своего появления стихи Клавдии Холодовой стали популярны в молодёжной среде. Особый интерес вызвало её стихотворение «Голубой олень» о хрупкой чистоте первой любви. Оно вошло в её первый сборник «Я верю», изданный газетой «Комсомолец Каспия» в 1965 г.
Через два года в 1967 в Нижнее-Волжском издательстве под этим названием — «Голубой олень» — вышел её второй сборник.
В следующей книжке — «Лесная река» изданной в 1974 году, кроме лирических стихов, были опубликованы поэмы «Память» и «Ворожба» написанные по своим детским ощущениям военного времени.
Она стала сотрудником газеты «Комсомолец Каспия», писала для неё статьи, очерки и репортажи, организовала при редакции газеты литературную студию «Подснежник», публиковалась также в газетах «Литературная Россия», в журнале «Молодая гвардия», в журналах городов Поволжья.
Её голос звучал в передачах Всесоюзного и Астраханского радио, на волнах радиостанции «Юность», в эфире областного телевидения. Она стала членом Союза журналистов, была посмертно награждена Премией Астраханского комсомола в 1977 году.
В 1975 г. она участвовала в 6-м Всесоюзном совещании молодых литераторов в семинаре Василия Фёдорова. И в том же году подготовила для издательства «Современник» новую книгу стихов «Родниковая кровь», которую она собрала для вступления в Союз писателей. Но увидеть свою книгу не успела — она умерла в 1976 году от осложнения после гриппа на 33-м году жизни.
Поэтическим провидением стали её стихи, написанные в последние месяцы жизни: «И я отправляюсь в свой последний путь…», вошедшие в её посмертный сборник «Буду солнечно жить», 1978 г.